Традиционные российские ценности и их преломление в сознании студенческой молодежи
Aннотация
Одной из проблем современного глобализованного мира является опасность утраты национальной идентичности. Теоретическому осмыслению этой проблемы посвящены многие исследования, однако для поиска путей ее решения ощущается явная нехватка эмпирических исследований, позволяющих выяснить, насколько традиционные российские ценности сохраняются в сознании россиян. Данный вопрос наиболее актуален в отношении современной студенческой молодежи, поскольку студенты наиболее открыты всему новому, и их ценностная система подвергается активному влиянию различных стимулов внешнего мира. Целью исследования послужило выяснение особенностей ценностной структуры личности студентов и ее соответствия традиционным ценностям российской культуры. В качестве теоретической составляющей исследования использовались труды ученых, посвященные вопросам российской национальной идентичности и модель Г. Хофстеде. Для решения эмпирических задач использовалась авторская анкета, созданная с помощью Google Forms. В качестве опрашиваемых выступили студенты Белгородского государственного национального исследовательского университета. В рамках теоретического исследования были сформулированы традиционные ценности российской культуры в системе координат модели Г. Хофстеде: коллективизм, большая дистанция власти, принятие неопределенности, феминность, краткосрочная ориентация и сдержанность. Опрос подтвердил приверженность студентов только ценностям, соответствующим феминной культуре. По всем остальным параметрам модели Г. Хофстеде выявлено пусть небольшое, но смещение ценностей в противоположную сторону. Проведенное исследование позволило дополнить психологический портрет современного российского студента новыми аспектами и подтвердило необходимость более глубокого изучения рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: национальная идентичность, кросс-культурные различия, модель Г. Хофстеде, традиционные российские ценности, студенческая молодежь
Введение (Introduction). Глобализация, как и многие другие тенденции современного мира, несет в себе как будущие возможности, так и угрозы. Одной из наиболее ощутимых угроз является утрата национальной идентичности. Эта проблема все более остро ощущается и осознается многими исследователями и очевидно нуждается в серьезном концептуальном осмыслении. При этом она имеет множество различных аспектов, которые находят отражение в трудах политологов, социологов, культурологов и представителей других наук, изучающих вопросы общественного развития. В последнее время к этой проблеме все чаще обращаются и экономисты, видя в этом значительный потенциал к развитию экономики. И это не случайно, так как национальная идентичность, проявляемая в признаваемых ценностях, моделях поведения, культурных традициях и стереотипах, имеет, помимо прочего, и экономическое измерение. Как справедливо отмечает С.С. Мерзляков, «… взаимосвязь экономики и культуры представляет потенциальную возможность обнаружить как те социокультурные особенности, которые способствуют развитию экономики, т.е. позволяют «подогреть» экономическое развитие, так и те, которые ему препятствуют» (Мерзляков, 2021: 268).
Обращение к вопросу российской национальной идентичности является не только очень важной, но и очень сложной задачей. Дело в том, что многочисленные кросс-культурные исследования зарубежных ученых, на основе которых созданы целые кластеры стран с характеристиками и даже количественной оценкой выраженности тех или иных аспектов национальной культуры, практически не затрагивают Россию. Отметим, что многие из этих исследований первоначально производились с целью понять, какие культурные стереотипы представителей различных наций имеют принципиальное значение для развития международного бизнеса. Что же касается современной отечественной науки, то она, проявляя определенный интерес к вопросам национальных особенностей россиян, и, главное, к их устойчивости в условиях постоянно трансформирующейся экономической и политической российской действительности, все же не может «похвастаться» наличием системных исследований и общепризнанными результатами этих исследований.
Рассмотрение кросс-культурных различий может осуществляться с разным уровнем дифференциации. Наиболее упрощенный подход связан с выделением двух типов культур – восточной и западной. Данный подход весьма успешно осуществил в своей знаменитой книге «Теория Z» В. Оучи, проведя сравнительный анализ восточной и западной культур на примере японской и американской моделей менеджмента (Ouchi, 1981). Некоторые отечественные исследователи, применяя данный подход к анализу традиционной российской культуры, делают вывод о ее близости к восточному типу (Федоркова, 2019). Другие это категорически отрицают: «…азиатское начало в русской культуре лишь мерещится» (Лихачев, 2015: 30).
Очевидно, что этот вопрос не столь однозначен, по крайней мере, если иметь в виду все множество параметров, предлагаемых исследователями для обозначения национальных различий. Сложность русской души, воспетая Ф. Тютчевым, в значительной степени определяется той особенностью менталитета, которую называют бинарностью или противоречивостью. По мнению великого российского мыслителя Н.А. Бердяева, это объясняется тем, что «… в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное» (Бердяев, 2008: 30).
Поэтому в нашем исследовании мы отказались от такого двухмерного подхода в пользу многомерного. Наиболее известной моделью, реализующей данный подход, является модель, предложенная Г. Хофстеде (Hofstede, 2001), которая и была положена в основу проведенного исследования. Первоначально данная модель включала четыре параметра: дистанцированность власти, избегание неопределенности, индивидуализм/коллективизм и мускулинность/феминность. Несколько позже, по результатам исследований, проведенных Г. Хофстеде совместно с М.Х. Бондом, в данную модель был добавлен пятый параметр: долгосрочная/краткосрочная ориентация (Hofstede, Bond, 1988). Дальнейшие исследования, проведенные в содружестве с М. Минковым, дополнили эту модель еще одним параметром: высокая/низкая сдержанность (Hofstede, Minkov, 2010).
Предметом наших исследований является восприятие традиционных российских ценностей в современной российской студенческой среде. Мы выделили студенческую молодежь, исходя из следующих соображений. Студенческие годы – это период значительных изменений как в восприятии мира, так и в формировании ценностей и моделей поведения. Это то время, когда молодые люди задумываются, какие ценности для них важны, стремятся к независимости и самовыражению (Слинкова, Слинков, Патрусова, 2017). Они активно ищут себя, пробуют разные роли, чтобы понять, что им ближе, и где они могут найти свое место в обществе. Студенты открыты новым идеям и готовы воспринимать различные точки зрения. Они учатся критически мыслить, анализировать информацию и делать собственные выводы. Это помогает им адаптироваться к изменениям и быть более гибкими в своих взглядах. Многие студенты проявляют интерес к социальным и политическим вопросам, участвуют в общественных движениях и акциях. Они стремятся изменить мир к лучшему, выражая свою позицию через участие в волонтерских проектах, митингах и других формах гражданской активности.
Таким образом, студенческий возраст – это время формирования личности, поиска собственного пути и осознания своей роли в обществе. Новые модели поведения и ценности, которые формируются в этот период, закладывают основу для дальнейшей взрослой жизни.
Цель исследования (The aim of the work). В ходе исследования была поставлена цель – выяснить, насколько те ценности, которые приписываются традиционной российской культуре, находят отражение в сознании современной студенческой молодежи. Данная цель предполагала решение двух основных задач: определение традиционных ценностей в рамках параметров, заданных моделью Г. Хофстеде, и проведение опроса студентов для выявления реальной картины их самосознания и самоидентификации по данным параметрам.
Материалы и методы (Materials and Methods). Для решения первой задачи в качестве материалов исследования использовались труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам российской национальной идентичности. При этом использовались методы контент-анализа и герменевтического анализа, позволяющего совместить исторический контекст с современными научными представлениями и собственным опытом авторов. Для решения второй задачи использовалась авторская анкета, созданная с помощью Google Forms и содержащая вопросы, «привязанные» к параметрам модели Г. Хофстеде (https://forms.gle/ZeFufwMuNcXFYBo16). На каждый параметр в анкете было предусмотрено три вопроса, предполагающих выбор одного из двух представленных суждений. Целевой аудиторией опроса были студенты Белгородского государственного национального исследовательского университета, выборка формировалась по вероятностному принципу, т.е. принять участие в опросе мог каждый желающий, обучающийся в университете. Всего в исследовании приняли участие 310 человек, в том числе 226 девушек и 84 юношей.
Результаты и их обсуждение. Решая первую задачу, попытаемся сформулировать традиционные ценности российской культуры в системе координат модели Г. Хофстеде.
Индивидуализм/коллективизм – этот параметр наиболее понятен и исследован. Чаще всего коллективизм приписывается восточным культурам, а индивидуализм – западным. Кросс-культурные исследования, посвященные анализу индивидуалистического и коллективистского мировоззрения, практически единодушны в признании того, что индивидуалистические ценности в большей степени способствуют развитию экономики, чем коллективистские (Лебедева, 2008; Gorodnichenko, Gerard, 2012; Shane, 1992). Однако здесь не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно сказать, что сам Г. Хофстеде придерживался иной точки зрения: «… как показывают данные, причинная связь здесь как раз обратная: благосостояние ведёт к индивидуализму» (Hofstede, 2001: 253).
Что касается традиционной российской культуры, то ее практически без оговорок причисляют к коллективистской. И. Р. Федоркова указывает: «Русский народ с древних времен отличался коллективистским мироощущением, привык жить в составе общины, которая регулировала жизнь своих членов: оказывала поддержку, применяла санкции» (Федоркова, 2019: 102).
Дистанцированность власти – этот параметр в трактовке Г. Хофстеде «связан с различной трактовкой фундаментальной проблемы человеческого неравенства» (Хофстеде, 2014: 18). Он позволяет оценить, в какой степени люди готовы воспринимать неравенство, возникающее в результате разделения власти между людьми. Результатом этого восприятия является либо принятие иерархии, субординации в качестве естественного положения вещей, либо, напротив, стремление нивелировать любые различия между людьми, обусловленные статусностью. В обществах, где доминирует первый тип отношения к власти, формируется большая дистанция власти, что проявляется в уважении к старшинству, более формальных отношениях между людьми, занимающими разные позиции в обществе, а демонстрация атрибутов власти не считается зазорной. В обществах с малой дистанцией власти делается все, чтобы исключить неравноправие или, по крайней мере, не демонстрировать открыто признаков статуса.
Принято считать, что российской культуре присуща большая дистанция власти. В.О. Ключевский указывает на нравственное отчуждение русского народа и власти (Ключевский,1987: 336-343). Анализируя исторический опыт, А. С. Ахиезер пишет: «Дистанция власти в российском обществе всегда была значительной. Власть воспринималась как нечто чуждое, далекое, неподконтрольное народу» (Ахиезер, 1998: 345). Аналогичного мнения придерживается и Ю. М. Лотман, несколько иначе интерпретируя это явление как нечто сакральное, стоящее над обыденностью жизни, и объясняя дистанцированность власти ощущением её непостижимости и недоступности (Лотман, 2000). Еще более критично по вопросу власти в России высказываются зарубежные исследователи, подчеркивая ее авторитарный характер (Pipes, 1974; McAuley, 1992). Отметим, что в последние годы многое делается для сокращения дистанции власти, но реальное положение дел пока не позволяет сделать оптимистичных выводов: по словам В. Зорькина, главы конституционного суда: «Уровень неравенства по децильному коэффициенту (разрыву доходов 10% богатейших и 10% беднейших граждан) в РФ превысил десятикратный порог и приближается к 17 единицам, неофициально уровень неравенства еще выше» (ТАСС, 2024). Отметим, что специалисты в области государственной безопасности называют критическим уровень децильного коэффициента, равный 8, предполагая, что превышение этого значения грозит народными волнениями. Сохраняющаяся политическая стабильность в России в этих условиях объясняется, как представляется, той традиционной чертой русского человека, которую В.О. Ключевский обозначал как привычку к терпеливой борьбе с невзгодами и лишениями, непритязательность, выносливость (Ключевский, 1987: 312).
Избегание неопределенности – данный параметр отражает, насколько люди готовы к восприятию ситуаций с неясными последствиями. Культуры, плохо воспринимающие неопределенность, для устранения этого фактора стремятся максимально регламентировать и структурировать различные проявления реальности для предупреждения возможного риска. Считается, что такие культуры являются менее восприимчивыми ко всему тому, что не вписывается в собственные представления, как пишет по этому поводу Г. Хофстеде: «Возможна только одна Истина, и мы обладаем ею» (Хофстеде, 2014: 22). Культуры, воспринимающие неопределенность, проявляют большую толерантность по отношению к тому, что не соответствует собственным мнениям и правилам. Для них новое является, скорее, не источником риска, а предметом познавательного любопытства.
Пожалуй, этот параметр является наиболее сложным для интерпретации применительно к русской культуре. У западных исследователей сложилось однозначное мнение о принадлежности русской культуры к культурам высокого избегания неопределенности (Richmond, 1992). Некоторые отечественные исследователи разделяют это мнение (Стефаненко, 2004), другие придерживаются противоположных взглядов (Дюметц, Сосновская, 2005). Доказательства принадлежности русской культуры к культурам с низким избеганием неопределенности мы находим у исследователей-лингвистов, которые, на наш взгляд, правомочно соотносят фактор неопределенности с особенностями русского языка. Так, например, С.А. Песоцкая пишет: «Русское языковое сознание абсолютно «сжилось» с неопределенностью и воспринимает ее как норму» (Песоцкая, 2014: 155). В пользу признания традиционной русской культуры как культуры с низким избеганием неопределенности можно привести, например, такие аргументы. Во-первых, это неискоренимая привычка русского человека надеяться на «авось». В.О. Ключевский отмечает: «великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великоросское авось» (Ключевский, 1987: 315). Во-вторых, русскому человеку довольно сложно приписать такое свойство, как уважение к правилам и даже к законам. Наконец, русский человек привык к превратностям судьбы и выработал определенный иммунитет к ним.
Мускулинность/феминность – еще один параметр с довольно сложной интерпретацией. Известно, что существуют модели поведения, традиционно приписываемые мужчинам и женщинам. Мужская (мускулинная) модель поведения базируется на таких ценностях, как решительность, успех, упорство и настойчивость в достижении поставленных целей, готовность в борьбе отстаивать свои интересы, материальное благополучие. Женская (феминная) модель поведения поддерживается такими ценностями, как заботливость, любовь, милосердие и качество взаимоотношений. Как отмечает Г. Хофстеде, в мускулинной культуре «между представителями двух гендерных групп наблюдается максимальная дифференциация эмоциональных ролей» (Хофстеде, 2014: 26). В женственных культурах эта дифференциация выражена гораздо слабее.
Русскую культуру традиционно причисляют к феминным. Такие ее особенности, как душевность, эмоциональность, способность к состраданию и восприятию малого – те черты, которые обычно приписывают феминным культурам, а преобладание ценностей качества взаимоотношений над материальным достатком хорошо отражает русская поговорка: «С милым рай и в шалаше». Вместе с тем, многие исследователи указывают на наличие в русской культуре и мужественных аспектов, которые особенно проявляются в период кризисов и войн. Н. Бердяев указывает на это как на один из аспектов противоречивой русской души: «Мужественный дух потенциально заключен в России пророческой, в русском странничестве и русском искании правды. И внутренно он соединится с женственностью русской земли» (Бердяев, 2024: 24).
Долгосрочная/краткосрочная ориентация. Этот параметр, как правило, не вызывает особых затруднений для интерпретации. Для культур с долгосрочной ориентацией будущее представляет предмет особой заботы, поскольку считается, что «наиболее важные жизненные события произойдут в будущем» (Хофстеде, 2014: 31), тогда как для культур с краткосрочной ориентацией принцип «здесь и сейчас» является доминирующим, при этом прошлому и традициям отдается значительная дань. Русская культура исследователями обозначается как краткосрочная. Для таких выводов много оснований. Достаточно сказать, что православием всегда поддерживался тезис «будет день – будет пища», а на привычку русских «больше оглядываться назад, чем заглядывать вперед» указывают многие исследователи традиционных черт русского характера.
Высокая/низкая сдержанность. Высокая сдержанность «характерна для социума, в котором удовлетворение потребностей контролируется и управляется путём введения строгих общественных норм» (Хофстеде, 2014: 32). В культурах с низкой сдержанностью удовлетворение естественных потребностей не встречает преград со стороны социума, а получение удовольствия является важным условием наслаждения жизнью. Этот параметр в модели Г. Хофстеде является относительно новым и по нему еще не накоплено эмпирических данных, тем не менее, если исходить из традиционных представлений, русскую культуру со всей очевидностью можно отнести к культурам с высокой сдержанностью, хотя она явно не находится на этом полюсе, а, скорее, приближена к нему.
На следующем этапе нашего исследования был проведен опрос для выяснения того, насколько те ценности, которые традиционно приписываются российской культуре, соответствуют самосознанию студенческой молодежи. По результатам данного опроса был построен общий психологический профиль опрашиваемых, представленный на рисунке 1.
Прежде чем комментировать представленные на рисунке данные, поясним методику расчета параметров модели Г. Хофстеде. Поскольку разработанная нами анкета по каждому параметру содержала три вопроса на выбор, то максимальное количество баллов, соответствующих границам шкал по каждому из них, равно трем.
В целом по выборке по шкале «индивидуализм – коллективизм» мы получили практически срединное значение с небольшим отклонением (0,17) в сторону индивидуализма. Это означает, что говорить о коллективистском мировоззрении, которое считается традиционным для российской культуры, в отношении современных российских студентов не приходится. Следует признать, что сегодня мы постепенно «дрейфуем» в сторону индивидуализма, причем наиболее явно это проявляется в молодежной среде. Существует множество причин, объясняющих это явление. Российское общество за последние десятилетия пережило множество кризисов. Возьмем хотя бы так называемую перестройку, когда люди, привыкшие жить с опорой и надеждой на коллектив, государство вынуждены были самостоятельно, без какой-либо предварительной подготовки научиться «плавать в этом рыночном море». На другую причину указывает С.А. Воронин, приводя в пример рекламные лозунги, составляющие современный ментальный мейнстрим: «Бери от жизни все», «Ты – лучший!», «Выделись из серой массы», «Не будь как все» (Воронин, 2013: 5).
Если сравнивать психологические профили девушек и юношей (рис. 2) то они по данному параметру имеют минимальное различие с несколько более выраженным индивидуализмом юношей по сравнению с девушками (0,19 и 0,17 соответственно).
На рисунке 3 представлены психологические профили студентов, обучающихся на программах бакалавриата и магистратуры. Мы посчитали рассмотрение этих составляющих выборки целесообразным, так как магистры по сравнению с бакалаврами с точки зрения общих подходов – это более зрелые личности, имеющие более устойчивое мировоззрение в силу возраста и жизненного опыта. Как показало исследование, у магистров индивидуализм выражен слабее (0,11) по сравнению с бакалаврами (0,19).
По шкале «малая – большая дистанция власти» не подтвердилось восприятие студентами неравноправия как естественного проявления обладания людьми властными полномочиями. По данному параметру имеется пусть небольшое (0,17), но отклонение в сторону малой дистанции власти. Интересно, что девушки проявляют стремление к равноправию в несколько большей степени, чем юноши (0,20 и 0,10 соответственно), а магистры более привержены ему по сравнению с бакалаврами (0,34 и 0,20 соответственно).
Таким образом, результаты опроса показали, что в молодежной студенческой среде представления о том, что иерархия, субординация и статус должны признаваться как естественные составляющие организации общества, как минимум, не являются популярными.
Не подтвердились в отношении студентов также и традиционные представления о русской культуре как культуре с принятием неопределенности. По шкале «избегание – принятие неопределенности» мы получили отклонение в сторону неприятия неопределенности (0,50). При этом обнаружилось, что юноши в большей степени тяготеют к неприятию неопределенности, чем девушки (0,86 и 0,36 соответственно), как и магистры по сравнению с бакалаврами (0,67 и 0,48 соответственно). Это свидетельствует о более взвешенном отношении студенческой молодежи к риску, чем это принято думать по отношению к россиянам в историческом контексте.
По шкале «мускулинность – феминность» мы наконец-то получили подтверждение исходной гипотезы о признании русской культуры женственной. По этой шкале мы видим явное преобладание феминных аспектов (1,13 по общей выборке). При этом, как и следовало ожидать, феминные аспекты преобладают у девушек по сравнению с юношами (1,25 и 0,81 соответственно). Также преобладание феминных аспектов мы наблюдаем у магистров по сравнению с бакалаврами (1,788 и 1,03 соответственно).
Еще в большей степени по сравнению с тремя первыми параметрами модели мы получили отклонение от традиционных представлений у студентов по шкале «долгосрочная – краткосрочная ориентация». Приближение к «полюсу» долгосрочной ориентации в общей выборке составило 0,93, что представляется достаточно существенным. При этом более ориентированы на долгосрочную перспективу девушки по сравнению с юношами (0,97 и 0,86 соответственно) и магистры в сравнении с бакалаврами (1,22 и 0,92 соответственно). Это позволяет говорить о том, что современные российские студенты проявляют достаточную целеустремленность и желание работать на перспективу.
Полученное по результатам опроса студентов значение в системе координат «низкая – высокая сдержанность» находится в центре этой шкалы с минимальным отклонением в сторону высокой сдержанности (0,02), что также не согласуется с традиционными представлениями по этому вопросу. Более высокий уровень сдержанности проявляют юноши по сравнению с девушками (0,048 и 0,006 соответственно). А в группах магистров и бакалавров значения показателей по этой шкале «разошлись» в разные стороны: бакалавры на 0,04 балла подвинулись в сторону низкой сдержанности, а магистры на 0,22 приближаются к «полюсу» высокой сдержанности.
Заключение (Conclusion). Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Ценности, традиционно связываемые с русской культурой, не находят явного проявления в сознании студенческой молодежи. Оговоримся при этом, что, формулируя традиционные ценности, мы исходили, прежде всего, из трудов великих русских исследователей, таких как Н.А. Бердяев, В.О. Ключевский, Д, С. Лихачев, хотя принимали во внимание и труды современных ученых. При этом мы понимали, что эти ценности, несмотря на их значительную устойчивость, не могли не подвергнуться изменениям вследствие многих потрясений, которые выпали на долю России в ХХ-ХХI вв. Оценивать результаты этого процесса нельзя, на наш взгляд, однозначно. С одной стороны, отход от традиционных ценностей грозит потерей национальной идентичности. С другой стороны, некоторые традиции способны стать «ярмом на шее» и помешать развитию.
2. Бинарность, противоречивость русского характера в полной мере подтвердилась в результатах исследования. Это проявлялось в том, что студенты в рамках одного параметра выбирали ответы с противоположным значением. Например, по параметру «индивидуализм – коллективизм» довольно часто студенты выбирали ответ «При принятии решений я учитываю интересы окружающих» (коллективистское мировоззрение), а в рамках другого вопроса выбирали ответ «Я предпочитаю выполнять индивидуальное задание и единолично нести ответственность за достигаемые результаты» (индивидуалистическое мышление).
3. Коллективизм как признанная русская традиция не нашел подтверждения в результатах исследования. Мы уже писали выше об основных причинах, породивших в российском обществе тенденцию роста индивидуалистических ценностей. Оценивать результаты этой тенденции довольно сложно. Некоторые не видят в этом большой опасности, связывая распространение индивидуалистического мировоззрения с возможностями экономического роста. Однако эта закономерность не столь очевидна и не всегда подкрепляется статистическими данными. Так, например, Китай, являющийся наиболее ярким примером коллективистской культуры, сегодня демонстрирует гораздо более высокие темпы роста экономики по сравнению со странами, культура которых признается индивидуалистической.
Также важно понимать, что все в этой жизни имеет свои плюсы и минусы. Например, коллективизм, способствуя высокой степени сотрудничества и взаимопомощи, в своем крайнем выражении может провоцировать рост иждивенческих настроений, а индивидуализм, обеспечивая свободу выбора и самореализации, может приводить к социальной напряженности из-за конфликта интересов. Поэтому многие исследователи в качестве оптимальных обозначают гибридные модели культуры, сочетающие в себе элементы индивидуализма и коллективизма: «Будущее принадлежит тем, кто сможет найти способ сбалансировать потребности группы с устремлениями индивидуума. Ни одна из крайностей не является устойчивой в долгосрочной перспективе» (Hofstede, Minkov, 2010: 89). Отметим, что выявленное в опросе студентов смещение в сторону индивидуализма не является критичным. Данную ситуацию можно обозначить как умеренный коллективизм, и это все-таки лучше, чем тот «безличный коллективизм», о котором писал Н.А. Бердяев, характеризуя русскую культуру» (Бердяев, 2008: 31). Коллективизм в сочетании с личной ответственностью и самодостаточностью каждого, на наш взгляд, представляет собой наиболее достойный вариант решения этой проблемы.
4. Смещение взглядов студентов в сторону малой дистанции власти следует, по нашему мнению, признать позитивным процессом. Это свидетельствует о неприятии ими авторитаризма, стремлении к более неформальным отношениям между людьми вне зависимости от занимаемого ими статуса, признании права людей на равенство возможностей. Отметим также, что особенностью менталитета русского человека всегда было недоверие к власти. Поэтому выявленная тенденция к сокращению дистанции власти может способствовать росту доверия к ней.
5. Результаты исследования по параметру отношения к неопределенности «ломают» устоявшееся представление о русском человеке как человеке, не любящем правил и склонном нарушать их. Это также следует оценивать положительно. При этом важно, что по данному параметру обозначилась так называемая «золотая середина»: при достаточной степени уважения к правилам и порядку, студенты проявляют интерес к новому, допуская определенную степень риска, и предпочитают творческий подход к выполнению поручаемых заданий.
6. Преобладание у студентов долгосрочной ориентации над краткосрочной мы также рассматриваем как позитивный момент. Не секрет, что русский человек, в ментальности которого причудливо сочетается рациональность и созерцательность, далеко не всегда мыслит целями, не склонен к четкому планированию своих действий, видя в этом ограничение личной свободы, и тратить ему чаще оказывается легче, чем экономить. Поэтому обнаруженная нами тенденция позволяет говорить о наличии у студентов желания строить свое будущее, а не «плыть по течению».
8. Результаты исследования по шкале «высокая – низкая сдержанность» не показали какого-либо преобладания той или иной позиции. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, гедонистический образ жизни студентам не свойственен, но, с другой стороны, они не склонны совсем отказывать себе в чувственных удовольствиях, а их поведение является более раскованным, открытым, чем это соответствует русским традициям. Впрочем, данный параметр, как мы отмечали ранее, является малоизученным, и поэтому по полученным результатам его оценки мы не готовы делать далеко идущие выводы.
Таким образом, проведенное исследование позволило нам сформировать психологический портрет современного российского студента, а вернее, добавить к нему некоторые штрихи. Проблема, затронутая нами, является сложной и требует дополнительного более глубокого изучения. Кроме того, представленный «портрет» является усредненным, т.е. может использоваться для характеристики студентов как выделенной группы социума. Для каких-либо оценок на индивидуальном уровне этот «портрет» может использоваться как некоторая основа для сравнительных исследований. Поэтому считаем возможным привести в завершение слова Г. Хофстеде, создателя используемой в исследовании модели: «Внутри каждой национальной культуры можно найти широкое разнообразие отдельных личностей, и поэтому показатели измерения национальных культур не должны использоваться для стереотипного представления индивидов (Хофстеде, 2014: 20).
Информация о конфликте интересов: авторы не имеют конфликта интересов для декларации.
Conflicts of Interest: authors have no conflict of interests to declare.
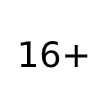



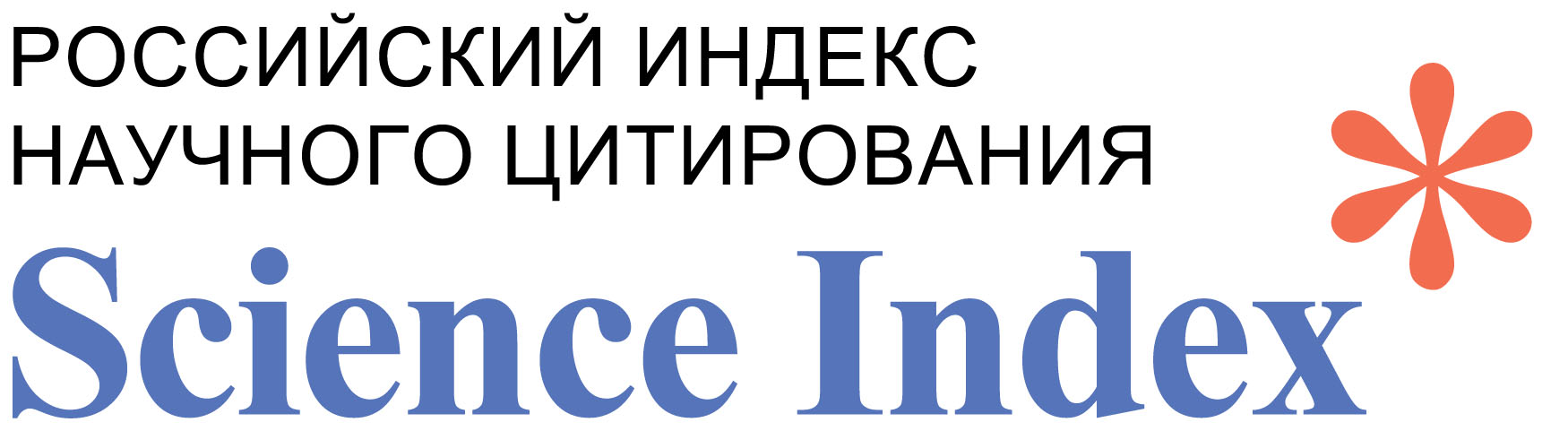



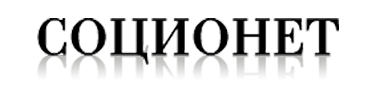
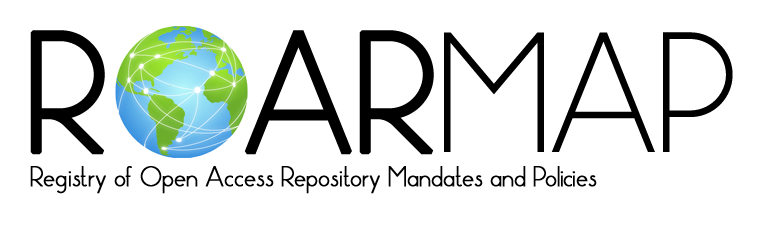

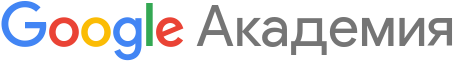




Список литературы
Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). От прошлого к будущему. Т. I. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998 – 804 с.
Бердяев Н. Русская идея. Санкт-Петербург. Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 317 с.
Бердяев Н.А. Судьба России. М.: АСТ, 2024.
Воронин С.А. Моральный вакуум общества потребления. ХХI век, «общество потребления» // Вестник РУДН, серия Всеобщая история. 2013. № 3. С. 5-7.
Дюметц Ж., Сосновская А.М. Кросс-культурная коммуникация // Управленческое консультирование. 2013. № 8 (56). С. 83-90.
Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения в 9 т. Т.1. М.: Мысль, 1987. – 430 с.
Лебедева Н.М. Ценности культуры, экономические установки и отношение к инновациям в России // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 5. № 2. С. 68–88.
Лихачев Д. Избранные труды по русской и мировой культуре. 2-е изд., перераб. и доп. / сост. и науч. ред. А. С. Запесоцкий. СПб. : СПбГУП, 2015. – 540 с.
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПб., 2000. – 340 с.
Мерзляков С.С. Чем философия может быть полезна институциональному экономисту? // Идеи и идеалы. 2021. Т. 13. № 2. ч. 2. С. 266–283. DOI: 10.17212/2075-0862-2021-13.2.2-266-283.
Песоцкая С.А. К проблеме поиска методологии сравнительного изучения национальных культур через призму базовых характеристик // Вестник науки Сибири. 2014. № 1 (11). С. 154-160.
Слинкова О.К., Слинков А.М., Патрусова А.М. Исследование мотивации личностного роста студентов в процессе вузовского обучения // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3-1 (80). С. 774-779.
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2004 – 368 с.
ТАСС. Глава КС заявил, что социальное неравенство в РФ почти вдвое превысило критический порог. URL: https://tass.ru/obschestvo/19515485 (дата обращения: 10.12.2024).
Федоркова И. Р. Кросс-культурные особенности профессиональной деятельности предпринимателей восточного и западного типов // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2019. № 1. URL: http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/937 (дата обращения: 10.12.2024). DOI: 10.17805/trudy.2019.1.10.
Хофстеде Г. Модель Хофстеде в контексте: параметры количественной характеристики культур // Язык, коммуникация и социальная среда. 2014. № 12. С. 9-49.
Gorodnichenko, Y. and Gerard, R. (2012), “Understanding the individualism-collectivism cleavage and its effects: Lessons from cultural psychology”, Institutions and comparative economic development, Palgrave Macmillan UK, pp. 213–236.
Hofstede, G. (2001), Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations, Thousand Oaks CA, Sage.
Hofstede, G. and Bond, M. H. (1988), “The Confucius connection: from cultural roots to economic growth”, In Organizational Dynamics, 16 (4), pp. 4-21.
Hofstede, G., Hofstede, G. J. and Minkov, M. (2010), Cultures and Organizations: Software of the Mind, Revised and expanded third edition, New York, McGraw-Hill1.
McAuley M. (1992), Soviet Politics – 1917-1991, Oxford, Oxford University Press.
Ouchi, W. (1981), Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge, Addison-Wesley Publishing Company.
Pipes, R. (1974), Russia under the Old Regime, New York, Scribner.
Richmond, Y. (1992), From Nyet to Da: Understanding the Russians, Yarmouth, Intercultural Press.
Shane, S. (1992), “Why do some societies invent more than others?”, Journal of Business Venturing, Vol. 7, pp. 29–46.